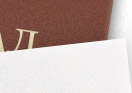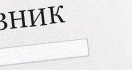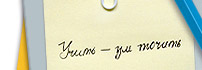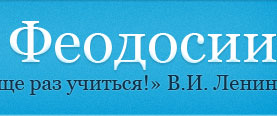
Ваш e-mail Ваш пароль
Школа № |
Выбрать |
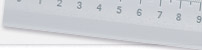

 |
Дворы нашего детстваПочему, интересно, после пятидесяти, хочется заглянуть в прошлое? Ведь ничего ни исправить, ни - тем более - повторить, нельзя... Это наверное, ностальгия называется. По детству, хорошему - могу утверждать - детству в родном городе. Почему вспомнил про дворы: школы-то, были местом где мы учились, знакомились, а вся остальная жизнь - до и после школы, проходила дома и во дворе, позже- по интересам. В нашем классе интересы были разнообразные, в основном - спортивные. Считаю, что интерес к спорту нам был привит ещё в 4-й школе Давыдом Даниловичем Стерлиным, о чём я уже сообщил своему терпеливому читателю . Но, опять забегаю малость вперёд...
Итак, первый мой двор был на станции Айвазовская, и это место я кратко описал. Был глухой забор из ракушечника, отделявший его от дороги - это ведь улица Федько, кажется. Не знаю, конечно, имела ли она тогда, в начале 50-х, такое название. Теперь его давно нет. Не припоминаю, жил ли кто ещё в этом дворе, кроме наших кур и двух собак, а так же дедушки и бабушки: мама тогда ещё не приехала от отца, с которым они вскоре расстались. Про мороз, случившийся как-то раз, и о кино, я уже рассказал; а вот о том, что какие-то соседские, более взрослые парни, делали и запускали в море довольно крупные деревянные корабли типа крейсеров, стоит сказать. Меня этот процесс очень заинтересовал - корабли были как настоящие, большие, и мне даже давали потрогать. А запускали их от берега пляжа, который теперь называется второй городской. Наверняка именно эти впечатления совсем раннего детства потом поспособствовали моему увлечению кораблями и флотами, но об этом - ниже. Ещё помнится, опять же, неприятный момент: кто-то кого-то дразнил, я «удачно» прятался за этим самым забором и... обиженный снайперски запустил мне камень прямо в бровь... Последствия - понятны: жив до сих пор! Никто из моего первого двора не стал моим другом, даже не помню, был ли с кем – нибудь знаком по настоящему...
Двор на Тимирязева 8 - это совсем другое дело: полно знакомых, некоторые - друзья на всю жизнь. Например, Серёга Арустамов. Там же, в углу, до сих пор прилеплены строения ( подозреваю, что они возведены без всякого участия архитекторов) - не помню № дома, в которых жило множество людей, один из которых был Саша Онкин - тоже мой одноклассник. Фамилии многих других память, конечно, не сохранила: не все из них были друзьями, с некоторыми были весьма натянутые отношения, с некоторыми - их большинство было, например, братья Ганай, вполне дружеские. Мир того моего двора характеризовался многообразием: доминировали старшие, младшие «не высовывались», но когда наступал вечер, то интерес у всех становился один: по крышам сараев - через забор - и в часть к матросам, « в кинушку». В темноте никто нас не трогал, а в массе матросиков мы легко терялись, благо нас охотно брали на руки, а смотреть кино на руках матроса - это было вообще замечательно! Не помню, чтобы кто-то, дежурный какой –нибудь, кого-то вылавливал, выводил. Хорошо было; это было РАЗВЛЕЧЕНИЕ, причём, конечно, приходили домой поздно, но не помню, чтобы дома сильно ругали. Доверяли и не боялись родители за нас. Назад - через забор: были какие-то приспособы, которые никто не убирал - для пацанов, что-ли, оставляли?... Это были 50-е - 60-е годы... Сейчас, к сожалению, большинство зданий казарм в заброшенном состоянии, двор наш зарос сорняками и даже... деревцами, а крыши сараев выглядят такими ветхими, что вряд ли сейчас выдержат кого-то...
Жить в морском городе и не тянуться к морю и ко всему, что с ним связано - такого не бывает, конечно. Увлечение флотом и морем не прошло и мимо меня, тем более, что в классе было не мало сыновей моряков. Вот Коля Григорьевский - сын офицера - фронтовика ВМФ, минёра, прошедшего Великую отечественную с одной царапиной. Сколько же мин он обезвредил? Вот Слава Трофимец - сын другого моряка, его батя в то время был командиром подводной лодки, чем Славка, конечно, очень гордился. Жаль, он не дошёл с нами до выпуска - отца на Каспий перевели преподавать, как помню, в училище, и встретились мы с ним только однажды, в 1985 году, кажется. Уже тогда были офицерами... Вот Миша Кузнецов, пришедший в класс позже всех, отец которого был главный начальник всех подводников в Феодосии. Весельчак и приколист, как сейчас можно сказать, тоже любил море. Любит до сих пор в звании контр-адмирала, но уже - запаса... Его карьера подводника, конечно же, стоит отдельного рассказа; я даже и не пытался бы затронуть эту тему, поскольку не профессионал во флотском ремесле… М-да, и у всех этих и других, кого я не назвал, были свои дворы. Некоторые нами использовались - по мере увлечений - по определённому назначению. Двор Григорьевского Коли тогда был закрытый, свободный от газгольдеров и прочей ерунды, что мешала бы играть в футбол. И мы там играли, подолгу и с интересом. Это, можно сказать, место начала футбола в нашем классе КАК КУЛЬТА.
Это по адресу, чуть не забыл сообщить главного, улица Назукина, 4. А вот во дворе у Арустамова и Юры Дюкова - ещё одного нашего одноклассника, после окончания школы переехавшего в Москву, почему-то мы начали культивировать... хоккей, разумеется на асфальте ( может быть, это был новый вид спорта, но мы забыли «подать заявку на его регистрацию», а теперь уже поздно: в него в Феодосии не играют...). Чтобы не забыть сразу вам адрес: улица Тимирязева, 4. Собственно, как не культивировать было? Ведь наши так здорово тогда играли в хоккей - это ж кумиры были! Были и другие дворы, где кто-то из нас с кем-то во что-нибудь играли; это и в «вышибалу», « джёзку», и всякую другую ерунду. Были дворы - по воспоминаниям моей жены Елены, в которых даже крутили фильмы и смотрели диафильмы, дети вместе со взрослыми, иногда жгли костры почти пионерские, при этом стихи читали, песни пели ... Этот двор - на углу Красноармейской, напротив бывшей гарнизонной прачечной... Даже не верится, что такое было...
Не совсем про дворы, но как же не вспомнить во что выливалось увлечение морем, флотом и кораблями!!! У меня дома, например, был целый пластилиновый флот, состоявший из вылепленных по фотографиям (для этого нужно было сами понимаете - читать соответствующие книжки, журнал «Морской сборник» - в обязательном порядке) кораблей лучших типов, как нам казалось, и классов. Почему «нам» - тоже понятно: у меня были «соратники» и советчики - главный Славка Трофимец. В моём «флоте» были линкоры, авианосцы, крейсера всех классов, эсминцы, и более мелкие суда и корабли. Даже какой-то эскадренный танкер! Всё, разумеется, в определённом масштабе; на авианосцах, конечно же, самолёты. (« Поставщик» - я сам и Саша Санин ). Поэтому, поскольку это был бы СИЛЬНЕЙШИЙ ФЛОТ В МИРЕ, на полу дедовской квартиры №3 на Тимирязева 8 в трёх кильватерных колоннах рассекали, как бы, воду какого-то океана одновременно корабли, никогда рядом не бывавшие, и даже не всегда одновременно в истории существовавшие... Но это были ДЕТАЛИ! Итак, это были - насколько помню - линкоры «Ямато», «Бисмарк» и «Айова», авианосцы «Энтерпрайз» и ещё какой-то или два, крейсера типа «Микума, «Свердлов» и других типов, а по более мелким память уже ничего не подсказывает...
Это увлечение продолжалось не мало лет и было это в 5 , 6, 7-м, кажется , классах, не смотря на мои отъезды и приезды из Будапешта. По этому поводу в анналах истории имеется фраза моей покойной бабы Нины: « Сярёжа - убери сваи параходы!» ... А порт - это особый разговор. Идея «освоения» порта тоже вышла со двора, какого уже не ясно. Простая идея, как и вся наша тогдашняя жизнь. В порту – корабли, и столько всего интересного, что словами не передать. Так оно и было, тем более, что все были мастерами форсирования заборов; а какой там забор был в то время у амбулатории моряков - смех, да и только! Память сохранила из всей нашей стайки любителей флота только Мишу Анисимова - будущего фотолетописца ФУТБОЛЬНОГО КУЛЬТА нашего класса, да более молодого «соратника» - моего соседа по подъезду Серёгу Агеева. Кажется, что иногда в нашу компанию попадал и сын командира подлодки Славка Трофимец. Вообще-то, во всех этих дворовых, портовых и массе других развлечениях и событиях детства, конечно же, много было ребят и из других классов и даже школ. Так и с портовыми походами получалось - то те, то другие лазили туда, но Мишка и Серёга запомнились особенно. Что делали? А вот что: перелезли, идём и смотрим по сторонам. Идти интересно было и желательно в сторону завода: в гражданском порту нам не дали бы и шагу ступить! Никто не останавливал из офицеров - подумаешь, пацаны! Опасаться следовало больше тёток, каких – нибудь мичманов постарше... А вообще-то в военном порту было вольно и свободно. Там, в углу, за пирсом с подлодками, начиналось самое интересное: пришвартованные плавмишени, в том числе, как оказывалось, бывшие немецкие корабли ( находили таблички на немецком внутри корпусов, надстроек), какие-то полузаброшенные катера ( некоторые на берегу). Наверное, это был ремфонд... Проникать в них и изучать всё то, что там находилось - можете себе представить - как это было захватывающе интересно!!! Время останавливалось - никто не соображал на какой период мы буквально ныряли в этот мир... Мы ничего, разумеется, не пытались оттуда унести, даже и в мыслях не было. Сами того не понимая, мы благодарили судьбу за возможность прикоснуться к этим флотским богатствам, поэтому уходить оттуда очень не хотелось, тем более, что никто и не препятствовал. Только однажды нашу стайку усталых уже мечтателей окликнул с большого буксира какой-то зычный голос, которому нельзя было не подчиниться. Кажется, кто-то убежал от страху. Голос сделал выговор за то, что тут ходили, и дал каждому по большой швабре. Корма буксира нам показалась площадью с «яматовскую», но мы не голосили: это было так созвучно «флотским струнам наших душ»... А за добросовестно выполненную работу голос, оказавшийся вахтенным, нас неплохо накормил и дал замечательного компота...
Далеко не все из нас оказались впоследствии причастными к морю, флоту: жизнь сама расставляет людей на какие-то свои, только ей известные, ступеньки. Некоторых просто нет (например, Миши Анисимова), кто-то об этом только вспоминает, проживая очень далеко, некоторые - всё забыли по причине погружения в сорокаградусный кайф... Всё реже помнятся дворы детства и то, чем мы увлекались. Это бывает с теми, кто не сохранил друзей детства. Мне жалко таких - их жизнь бесцельна. Жить - значит помнить обо всём том, что описано выше, а при встречах, пусть редких, вспоминать вместе то, что сам уже не вспомнишь. А всё же, в целом, большинство из нас стали хорошими людьми. Значит, и жизнь - при всех тогдашних трудностях, была хорошая, а детство в родном городе - просто замечательное!
Лелеко Сергей Вячеславович, выпускник средней школы N 10 г.Феодосии 1967 года
|

|
|